 62
62 
«ТОМАС ВУЛФ — О СКИТАНЬЯХ ВЕЧНЫХ И О ЗЕМЛЕ».
Он схватил кипу исписанных листов, на миг прижал к груди. — Хотел бы я забрать ее с собой. Точно расстаешься с родным сыном!
Отложил рукопись, хлопнул по ней ладонью, наскоро пожал руку Филда и зашагал к двери; Боултон двинулся за ним. На пороге Вулф остановился, озаренный предвечерним солнцем, огромный, величественный.
— Прощайте! — крикнул он. — Прощайте! Хлопнула дверь. Том Вулф исчез.
Наконец его нашли, он брел по больничному коридору.
— Мистер Вулф!
— Да?
— Ну и напугали вы нас, мистер Вулф, мы уж думали, вы исчезли!
— Исчез?
— Где вы пропадали?
— Где? Где пропадал? (Его вели полуночными коридорами, он покорно шел.) Ого, если бы я и сказал вам где… Все равно вы не поверите.
— Вот и ваша кровать, напрасно вы встали.
И он опустился на белое смертное ложе, от которого исходило слабое чистое веяние уготованного ему конца, близкого конца, пахнущего больницей; он едва коснулся этого ложа — и оно поглотило его, окутало больничным запахом и холодной крахмальной белизной.
— Марс, Марс, — шептал исполин в тишине ночи. — Моя лучшая, самая лучшая, подлинно прекрасная книга, она еще будет написана, будет напечатана, в иной год, через три столетия…
— Вы слишком возбуждены.
— Вы думаете? — пробормотал Томас Вулф. — Так это был сон? Может быть… Хороший сон…
Его дыхание оборвалось. Томас Вулф был мертв.
Идут годы, на могиле Тома Вулфа опять и опять появляются цветы. И казалось бы, что тут странного, ведь немало народу приходит ему поклониться. Но эти цветы появляются каждую ночь. Будто с неба падают. Огромные, цвета осенней луны, они пламенеют, искрятся прохладными удлиненными лепестками, они словно белое и голубое пламя. А едва подует предрассветный ветер, они осыпаются серебряным дождем, брызжут белые искры и тают в воздухе. Прошло уже много-много лет с того дня, как умер Том Вулф, а цветы появляются вновь и вновь…
Песочный человек
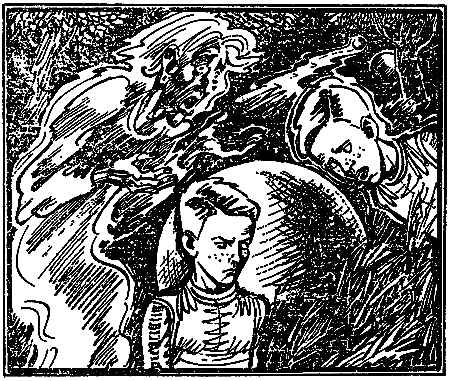
Роби Моррисон слонялся, не зная, куда себя деть, в тропическом зное, а с берега моря доносилось глухое и влажное грохотанье волн. В зелени Острова Ортопедии затаилось молчание.
Был год тысяча девятьсот девяносто седьмой, но Роби это нисколько не интересовало.
Его окружал сад, и он, уже девятилетний, рыскал по этому саду, как хищный зверь в поисках добычи. Был Час Размышлений. Снаружи к северной стене сада примыкали Апартаменты Вундеркиндов, где ночью в крохотных комнатках спали на специальных кроватях он и другие мальчики. По утрам они вылетали из своих постелей, как пробки из бутылок, кидались под душ, заглатывали еду, и вот они уже в цилиндрических кабинах, вакуумная подземка их всасывает, и снова на поверхности они вылетают посередине Острова, прямо к Школе Семантики. Оттуда — позднее — в Физиологию. После Физиологии вакуумная труба уносит Роби в обратном направлении, и через люк в толстой стене он выходит в сад, чтобы провести там этот глупый Час никому не нужных Размышлений, предписанных ему Психологами.
У Роби об этом часе было свое твердое мнение: черт знает до чего занудно.
Сегодня он был разъярен и бунтовал. Со злобной завистью он поглядывал на море: эх, если бы и он мог так же свободно приходить и уходить! Глаза Роби потемнели от гнева, щеки горели, маленькие руки не знали покоя.
Откуда-то послышался тихий звон. Целых пятнадцать минут еще размышлять — брр! А потом в Робот-Столовую, придать подобие жизни, набив его доверху, своему мертвеющему от голода желудку, как таксидермист, набивая чучело, придает подобие жизни птице.
А после научно обоснованного, очищенного от всех ненужных примесей обеда — по вакуумным трубам назад, на этот раз в Социологию. В зелени и духоте Главного Сада к вечеру, разумеется, будут игры. Игры, родившиеся не иначе как в страшных снах какого-нибудь страдающего разжижением мозгов психолога. Вот оно, будущее! Теперь, мой друг, ты живешь так, как тебе предсказали люди прошлого, еще в годы тысяча девятьсот двадцатый, тысяча девятьсот тридцатый и тысяча девятьсот сорок второй! Все свежее, похрустывающее, гигиеничное — чересчур свежее! Никаких тебе противных родителей и потому никаких комплексов! Все учтено, мой милый, все под контролем!
Чтобы по-настоящему воспринять что-нибудь из ряда вон выходящее, Роби следовало быть в самом лучшем расположении духа. У него оно было сейчас совсем иное.
 62
62 

