 30
30 
Проводив Пятигорова, интеллигенты повеселели и успокоились.
— Мне руку подал на прощанье, — проговорил Жестяков, очень довольный. — Значит, ничего, не сердится…
— Дай-то бог! — вздохнул Евстрат Спиридоныч. — Негодяй, подлый человек, но ведь — благодетель!.. Нельзя!..
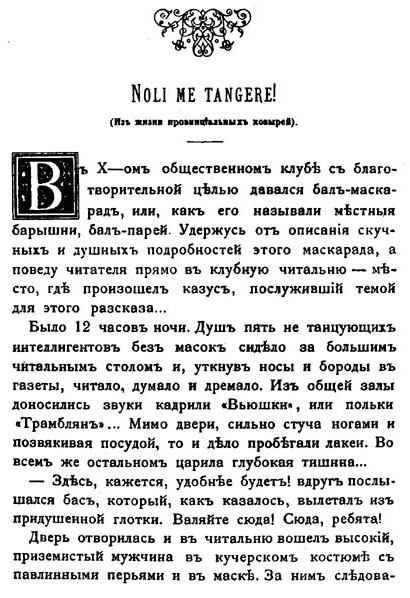
«Маска». Страница первой публикации в журнале «Развлечение».
В приюте для неизлечимо больных и престарелых *
Каждую субботу вечером гимназистка Саша Енякина, маленькая золотушная девочка в порванных башмаках, ходит со своей мамой в «N-ский приют для неизлечимо больных и престарелых». Там живет ее родной дедушка Парфений Саввич, отставной гвардии поручик. В дедушкиной комнате душно и пахнет деревянным маслом. На стенах висят нехорошие картины: вырезанная из «Нивы» купальщица, нимфы, греющиеся на солнце, мужчина с цилиндром на затылке, глядящий в щелку на нагую женщину, и проч. В углах паутина, на столе крошки и рыбья чешуя… Да и сам дедушка непривлекателен на вид. Он стар, горбат и неаккуратно нюхает табак. Глаза его слезятся, беззубый рот вечно открыт. Когда входит Саша с матерью, дедушка улыбается, и эта его улыбка бывает похожа на большую морщину.
— Ну, что? — спрашивает дедушка подходящую к ручке Сашу. — Что твой отец?
Саша не отвечает. Мама начинает молча плакать.
— Всё еще по трактирам на фортепьянах играет? Так, так… Всё это от непослушания, от гордыни… На твоей вот этой матери женился и… дурак вышел… Да… Дворянин, сын благородного отца, а женился на «тьфу», на ней вот… на актрисе, Сережкиной дочке… Сережка у меня в кларнетистах был и конюшни чистил… Реви, реви, матушка! Я правду говорю… Хамка была, хамка и есть!..
Саша, глядя на мать, Сережкину дочь и актрису, тоже начинает плакать. Наступает тяжелая, жуткая пауза… Старичок с деревянной ногой вносит маленький самоварчик из красной меди. Парфений Саввич сыплет в чайник щепотку какого-то странного, очень крупного и очень серого чаю и заваривает.
— Пейте! — говорит он, наливая три большие чашки. — Пей, актриса!
Гости берут в руки чашки… Чай скверный, отдает плесенью, а не пить нельзя: дедушка обидится… После чая Парфений Саввич сажает к себе на колени внучку и, глядя на нее с слезливым умилением, начинает ласкать…
— Ты, внучка, знатной фамилии… Не забывай… Кровь наша не актерская какая-нибудь… Ты не гляди, что я в убожестве, а отец твой по трактирам на фортепьянах трамблянит. Отец твой по дикости, по гордыне, а я по бедности, но мы важные… Спроси-кася, кем я был! Удивишься!
И дедушка, гладя костлявой рукой Сашину головку, рассказывает:
— У нас во всей губернии было только три великих человека: граф Егор Григорьич, губернатор и я. Мы были наипервейшие и наиглавнейшие… Богат я, внучка, не был… Всего-навсего было у меня паршивой землицы десятин тысяч пять да смертных душ шестьсот — и больше ни шута. Не имел я ни связей с полководцами, ни родни знатной. Не был я ни писателем, ни Рафаэлем каким-нибудь, ни философом… Человек как человек, одним словом… А между тем — слушай, внучка! — ни перед кем шапки не ломал, губернатора Васей звал, преосвященному руку пожимал и графу Егору Григорьичу наипервейший друг был. А всё потому, что жить умел в просвещении, в европейском образе мыслей…
После длинного предисловия дедушка рассказывает о своем прошлом житье-бытье… Говорит он долго, с увлечением.
— Баб обыкновенно на горох на колени ставил, чтоб морщились, — бормочет он между прочим. — Баба морщится, а мужику смешно… Мужики смеются, ну, и сам засмеешься, и весело тебе станет… Для грамотных у меня было другое наказание, помягче. Или выучить наизусть счетную книгу заставлю, или же прикажу взлезть на крышу и читать оттеда вслух «Юрия Милославского», да читать так, чтоб мне в комнатах слышно было… Коли духовное не действовало, действовало телесное…
Рассказав о дисциплине, без которой, по его словам, «человек подобен теории без практики», он замечает, что наказанию нужно противополагать награждения,
— За очень отважные поступки, как, например, за поимку вора, жаловал я хорошо: стариков на молоденьких женил, молодых от рекрутчины освобождал и проч.
Веселился во время оно дедушка так, как «теперь никто не веселится».
— Музыкантов и певчих было у меня, несмотря на скудость средств моих, шестьдесят человек. Музыкой заведовал у меня жид, а певческой — дьякон-расстрига… Жид был большой музыкант… Чёрт так не сыграет, как он, проклятый, играл. На контрабасе, бывало, выводил, шельма, такие экивоки, каких Рубинштейн или Бетховен, положим, и на скрипке не выведет… Учился нотам он за границей, жарил на всех инструментах и рукой махать был мастер. Только один недостаток был в нем: тухлой рыбой вонял да своим безобразием декорацию портил. Во время праздников приходилось его по этой причине за ширмочку ставить… Расстрига тоже не дурак был. И ноты знал и повелевать умел. Дисциплина у него была на такой точке, что даже я удивлялся. Он всего достигал. Бас у него иной раз дишкантом пел, баба в толстоголосии с басами равнялась… Мастер был, разбойник… Видом был важный, сановитый… Пьянствовал только сильно, но ведь это, внучка, кому как… Кому вредно, а кому и пользительно. Певчему надо пить, потому — от водки голос гуще становится… Жиду я платил в год сто рублей ассигнациями, а расстриге ничего не платил… Жил он у меня на одних только харчах и жалованье натурой получал: крупой, мясом, солью, девочками, дровами и проч. Жилось ему у меня, как коту, хоть и частенько порол я его на воздусях… Помню, раз разложил я его и Сережку, ее вот отца, отца твоей матери, и…
 30
30 

